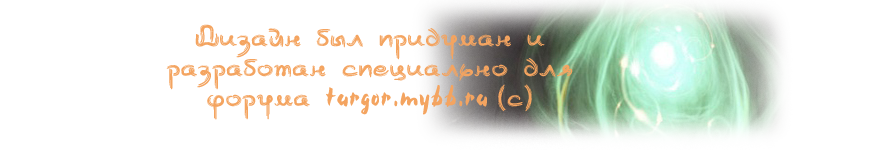Когда Промежуток начал сжиматься в предсмертных судорогах, выталкивая со всех концов Себя Цвет, собирая его в одном-единственном Покое, первым опустился маятник. В одну секунду, будто кто-то, стоящий за углом, спустил пусковой механизм. Има, широко распахнув глаза, в которых уже давно застыли вечные слезы, лишь успела подумать: «Я так и знала», прежде чем Лазурь и Изумруд выплеснулись из разрубленного напополам тела, окропив мрачные стены. И смерть ее, страдалицы, всегда желавшей отдать себя в обмен на спасение Сестер, но так и не осуществившей своей мечты, осталась незамеченной в этом разрушающемся Театре, уже отыгравшем свой Спектакль.
Има же отныне никогда и никого не спасет от Дракона.
Недородки, по всему Существу, сразу же после нее, будто оставшись без своей госпожи и дрессировщицы, а, может, вовсе — родительницы, пали замертво, расплываясь живительными каплями, тут же всасывающимися в землю, дабы потом вырваться потоком и подтолкнуть избранницу Скитальца и Поэта к раскрашиванию нового Полотна.
Затем полетели стекла, унеся за собой жизни сразу двух Сестер. Может, они и не были непосредственной причиной того, но — были виновниками.
Оле, ослепленная и израненная осколками, отшатнулась в страхе и смятении от окна, встретив спиной свое белое платье, тут же выскользнувшее из петли. А та словно ожила, затянувшись на хрупкой, но живой, а не пластмассовой серой шее, и Оле уже не выбраться: она паникует, моля о помощи, прося, чтобы тот, кого прочили ей в мужья пришел и помог, поскальзывается на каплях Цвета, заливающих пол, душа себя своими падениями, продолжающимися раз за разом. И так продолжается до тех пор, пока Сирень и Золото до капли не вытекут из ее ран.
В объятья Вечности она падет в сиротливой фате, нависшей над ее поникшей головой, подобно нимбу.
Но Невеста никогда не наденет свое подвенечное платье.
Ире не ожидала, что разлетевшиеся в разные стороны стекла беседок предательски выстрелят ей в спину, разрежут сухожилия под коленями и ударной силой столкнут теплое, шикарное тело в ледяную воду. Не ожидала, что невесть откуда взявшимся течением ее отнесет к одной из дыр на дне и затянет в саму Тьму, из которой она не выберется — ни вверх уплыть, ни вниз, в Промежуток, не выйти. Но перед кончиной успеет послать той, которая называла ее сладострастным, не слишком умным животным, несколько «добрых» слов.
Она уже не узнает, что от нее остался только шлейф из Янтаря и Золота.
А Верхний Предел никогда не увидит ее на своих столах.
Яни умерла раньше, до этих событий, став не жертвой зеркала и сломанной шеи, но пала жертвой предательства, от начертания «Вампира». Ведь Изгнаннику нужен был Цвет. Нужно было много Цвета… А где его брать, если все крупные недородки давно повисли мертвыми телами в пространстве? Если все Братья упали ниже самого Кошмара? Да, путь остается только один. Забрать то, что вложил сам, и то, что было вложено до него. Да, конечно, было немного жаль корчившегося в муках Фантома, раскрывшего в страхе глаза, словно видя, как со всех углов к ней тянутся те, кто пугал своим присутствием, но цель всегда оправдывает средства — он всегда свято в это верил. И не переставал верить, когда «снимал» ладонью Сирень и Лазурь, пока они, как их бывшая хозяйка, не растворились в Холоде.
Эта маленькая Терпсихора больше никогда не станцует на могилах обидчиков.
И Айя с ее кровавым балом Сатаны, где приносят в жертву неугодных, и Эхо с ее безумным миром нечисти, танцами на Лысых Горах под кронами серебряных деревьев, — они обе пали от немого, вынесенного полупрозрачной рукой приговора, а потому ни одна из них не станцевала на этой разрушительной вакханалии, а умерла, захлебываясь Цветом, вытекающим из каждой поры тела, заливающим глаза и встающим в горле, подобно кости. Даже Златоглазый не смог не признать, что это по-своему, извращенно, но красиво. Он бы даже изобразил на холстах эти обнаженные тела. Одно — укутанное расплавленным на Пурпуре Янтарем, а второе — застывшей благодаря Серебру Сирени и веером, скрывающим сломанные ноги. Верно, многие ведь гадали, когда же Эхо упадет со своих котурнов и переломает кости…
Служанка никогда не выступит под рукоплескания в изуверском театре.
Госпожа никогда не услышит полуночных баллад под своим окном.
Эли умерла сразу после Ире. Ее давно застывший во времени дирижабль подозрительно качнулся, а она, осознав, что это значит — встала на ноги и торжественно выпрямилась. Она, как любой хороший капитан, умирала со своим кораблем. Падала вместе с ним на землю Покоя, как орлица с подбитыми крылами, не покидающая дорогого ее душе гнезда. И пусть она, мертвая и сломанная, но не сломленная, уже не видела, как окончательно окрестится в Лете весь этот мир, не ощутила на себе веса созданных ею конструкций, которые пали, подточенные, как водой, ее же Стремлением и Мечтами. Серебром и Пурпуром. Она-то знала, что потеряла, а чего — нет.
А вот Поверхность не узнает, что навсегда потеряла ее мастерство.
В это же время умирала словно в Аду, в Геенне Огненной, еретичка Юна. Умирала под аккомпанемент взрывающихся плавилен. Умирала под осколками камней и металла. Умирала в страшных ожогах, волдырях, взрывающихся Пурпуром и Лазурью. Ей не было больно, ей не было мучительно, ведь она — рождена в огне, ведь она — всегда знала, что все именно так и будет. Последним ударом, контрольным выстрелом, стал взрыв печи, смотря в которую до потери зрения она молилась, лицезря различные картины из Верхнего Предела. Или ее сознания.
Но она никогда не верила в свое вознесение.
А Поверхность никогда не познает ее веры и религии.
Ава и Ута тоже умирали одновременно и даже почти одинаково. Когда в Алькове никому незримым дыханием задули свечи, в Гроте — закрылось око Луны. Он отвел от своей Дочери взор, дабы перевести его на других, тех, кому еще суждено Жить.
Содрогнувшиеся Покои, будто сжимаемые чьей-то рукой, пошли крупными трещинами.
Ава так и стояла, гордая, величественная, как царица, она не металась, как трусливое животное, пытаясь спастись, она уверенно ждала, не боясь встретить смерть и уйти к ее господину. И встретила она ее, женщину в белом саване, под обвалившимся сводом, под обрушившимися стенами, истекая Янтарем и Сиренью, прежде прошипев обращение к Ней: — Радуешься, стерва? — и прошептав Ему, тому единственному, перед кем стояла на коленях, слова любви.
Ута даже не покинула своей ладьи. Лишь закрыла глаза и уши, не желая видеть и слышать что-то, кроме закатившейся Луны. Все остальное — не было волшебным. Особенно падение ее ложа на камни, ее раны, ее погребение под скалами Грота и смывание приливом с остатков ее изуродованного тела Изумруда и Серебра. Разве это волшебство? И струна не натягивается — лишь с треском разрывается.
Люди, что Выше, никогда не познают натяжения, подобного Тургору.
Никогда не вернутся на зарю времен, дабы испытать новую жизнь.
А им двоим все равно. Пусть все умирают, захлебываясь во лжи и криках проклятий, пусть катятся к своим Братьям, которые не смогли уберечь их. А они будут стоять на вершине золотой вязи, золотого моста, устремляющегося ввысь, к Поверхности, к выходу из этого затхлого колодца, и наблюдать с самой высокой точки, с вершины этого мира, как гибнет все, и ждать завершения этого представления, ожидать, когда Цвет начнет пульсировать не только в их Сердцах, разрывая их изнутри, но и под ногами, грозясь вот-вот разрушить единственный уцелевший островок и послать весь этот Предел к чертям, на дно. Но они не дадут Семерым этого сделать прежде нужного. Гость в который раз начертит знак «Прорыв».
Все говорили, что он чертится всего лишь единожды… Неужто ли? Он, вот, уже трижды начертает, его, ставший привычным, «Прорыв». Вот тебе и пример чудес, которые творит подлинная любовь.
Они сожмут свои руки крепче, дабы не расплелись их пальцы, дабы не раскидало их по разным концам земли, когда они будут лететь вверх, подгоняемые порывами ветра, несущего на себе потоки Цвета из убитых созданий, и смотреть вниз, на остатки этой роскоши, уже падающей в Кошмар.
Он, возможно, вспомнит их, погибших, когда будет проматывать в памяти то, как прошел этот крохотный путь. Но она — никогда. Они не были ей родными, никто из них не был ей ни сестрой, ни братом, лишь называясь так. С единственным родным ее сердцу существом она поднимается наверх, остальные — пусть катятся в Тартарары. Плевать.
В палате больницы, на койке у окна, разбуженная встающим солнцем, очнется, на удивление врачам, она, больная без имени. Очнется там, где и засыпала, медленно гибнущая в одиночестве — без детей, без родных, без друзей, — от смертельной болезни. И впервые за все то время, что она была заточена здесь, в четырех белых стенах, она ощутила тягу к жизни, она захотела взять ее и не отпускать до того дня, пока не умрет ее милый с золотыми, как теплое солнышко, глазами. А там уже и разжать пальцы.
Она, больше не Сестра, поднимется на локтях, дабы выглянуть в окно, посмотреть на новый мир, созданный ее Цветами, мир, в котором отныне и навсегда есть место любви и терпению — вещам, которых раньше здесь не было и в помине. Посмотрит в небо и тихо шепнет ему, смотря в Око Луны, надеясь, что Он услышит: — С Новой Жизнью, мой милый.
Она чувствует, что болезнь отступила, осталась там, внизу.
И теперь она ждет, когда же придет Он, и верит, что дождется.
Так ведь уже было. Когда-то.
Он проснется в своей кровати, когда солнечный луч, чудом пробившийся сквозь щелку между задернутыми шторами, разбудит его ласково, неуверенно коснувшись золотых глаз. Он, поначалу, хотел было отдать раздражению частичку себя, да вот вспомнил кое-что… И тут же проснулся, скачком вырвавшись из объятий Того Мира. А после он подойдет к окну, чтобы, распахнув шторы и ставни, высунуться наружу и, вдохнув вязкий воздух, посмотрев в золотистое рассветное небо, тихо прошептать: — С Новой Жизнью, моя милая, — и умчится собираться — ему ведь, в конце концов, еще искать ее, его единственную, предначертанную ему Сестру с Золотом. И пусть уйдет на это вся жизнь. Очередная.
Но, может быть, судьба таки принесет ему подарок в честь Нового Дня?
Новый День — это ведь время чудес.
Верно?
Отредактировано Ни (14.01.2013 17:23:08)